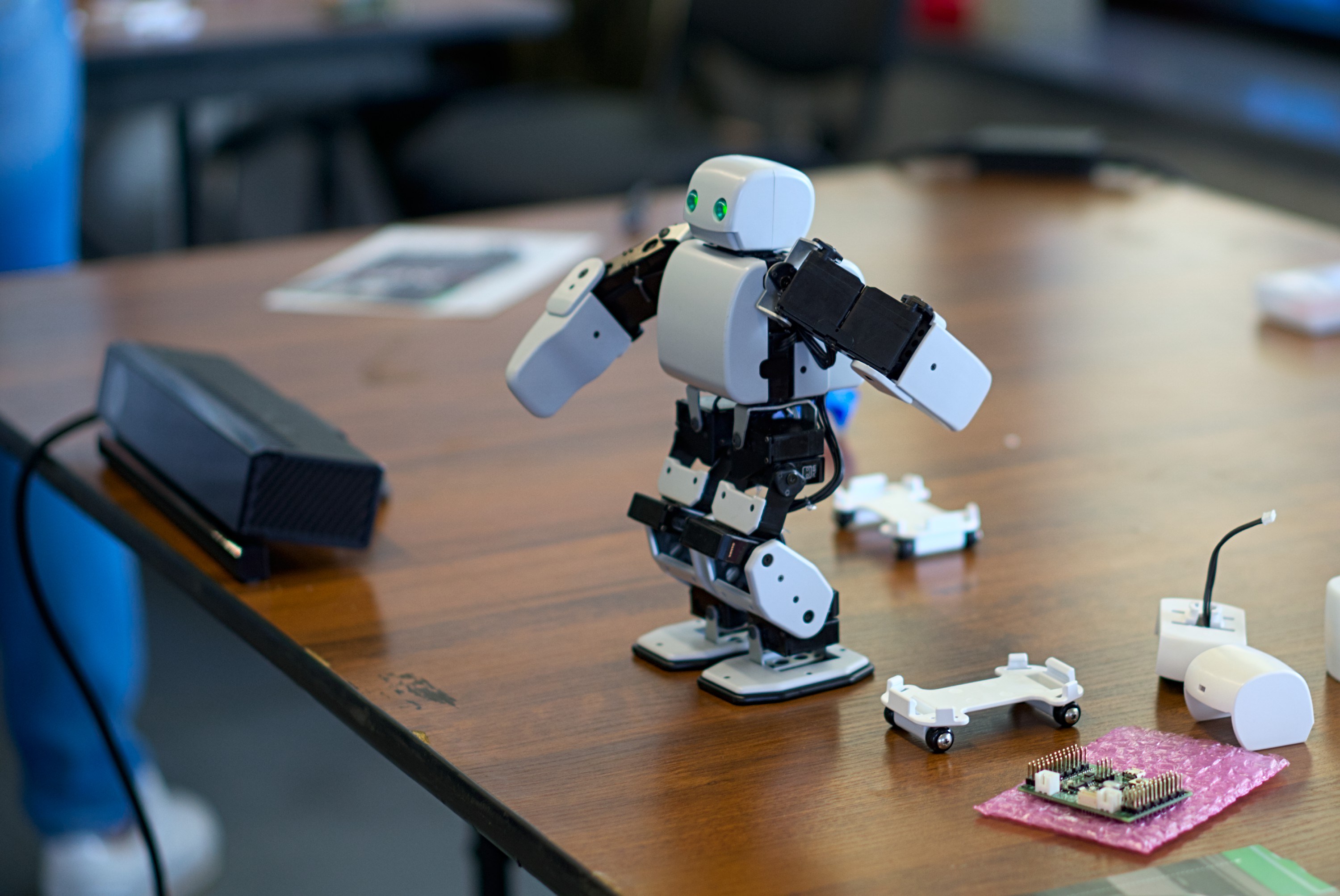Дядя федор, пес и кот, или сказочная армия эдуарда успенского. Веселые человечки: культурные герои советского детства
Эдуард Успенский “Дядя Федор, пес и кот”: кто главные герои?
Кто главные герои сказки Эдуарда Успенского “Дядя Федор, пес и кот”?
![]()
В сказочной повести Эдуарда Успенского “Дядя Федор, пес и кот” рассказывается о том, как мальчик дядя Федор отправляется жить в деревню, потому что его мама не дает ему завести кота. Мальчик весьма успешно справляется со взятой на себя ролью фермера, его хозяйство процветает не без помощи верных друзей. Но в конце он все равно возвращается домой.
Главные герои повести “Дядя Федор, пес и кот”.
- Дядя Федор, мальчик лет 5-6, может быть даже 7 лет, рост мальчика 120 сантиметров. Ответственный, умелый, трудолюбивый.
- Кот Матроскин. Рачительный хозяин, который даже газет не хотел выписывать, чтобы копить деньги. Завел корову и теленка.
- Пес Шарик. Беспородный, большой любитель охоты. Даже когда его подстригли под комнатного пуделя, все равно рвался в лес. Умеет водить трактор.
- Почтальон Печкин. Важный, немного сердитый, бюрократ.
- Родители дяди Федора. Очень любили сына, но мама не любила животных.
- Корова Мурка. Бодливая и боевая. Отличный сторож для дома.
- Галчонок Хватайка. Мог говорить несколько фраз.

![]()
Сказка-повесть о разумном мальчике, который с друзьями жил в деревне, очень интересная и поучительная. Главных героев в сказке три, и это: дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик.
Дядя Федор – не по годам эрудированный мальчик, которого за рассудительность и серьезность называют “дядей”. Он не склонен к детскому озорству, зато умеет налаживать быт и утихомиривать конфликты между Шариком и Матроскиным. Федор очень общительный, поэтому ему удается наладить контакт даже с ворчливым Печкиным.
Матроскин – это инициативный и предприимчивый кот, который прекрасно ведет хозяйство и продумывает возможные ходы в каждой ситуации. Он частенько задевает Шарика и подсмеивается над ним, но после ссоры умело восстанавливает с ним добрые отношения.
Дружелюбный Шарик имеет хобби, ему нравится фотоохота. Поэтому он частенько убегает в лес высматривать интересные моменты для удачных кадров. Шарик умеет дружить и ценит дружбу, а после конфликтов с Матроскиным обижается, но недолго.
В книге Успенского имеются и второстепенные персонажи, обладающие разными характерами. Здесь можно вспомнить почтальона Печкина, родителей Федора, галчонка и корову.
Он придумал Чебурашку, крокодила Гену, и кота Матроскина: Пост памяти Эдуарда Успенского
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Наивный Чебурашка, крокодил-интеллигент Гена, харизматичная старуха Шапокляк, не погодам самостоятельный Дядя Фёдор, противоречивый Печкин, дворник из «Пластилиновой вороны» – все его герои стали настоящей энциклопедией русской жизни. Его книги и мультфильмы давно разобрали на цитаты, а ещё они удивительным образом и сегодня помогают отцам и детям находить общий язык.
Как всё начиналось

Первое литературное произведение Эдуарда Николаевича Успенского – книга «Дядя Федор, пес и кот». Эту историю он написал, когда работал в библиотеке летнего лагеря и даже предположить не мог, что его сказку так полюбят и взрослые, и дети.

А когда по книге сняли мультфильм, то армия поклонников Дяди Федора и его друзей возросла многократно. Кстати, у каждого героя мультфильма был свой прототип – кто-то из членов команды, работавшей над мультфильмом или их родственники.
Чебурашка и все-все-все

Историю Чебурашки и крокодила Гены Эдуард Успенский придумал в Одессе. Он случайно увидел в коробке с апельсинами хамелеона и решил несколько приукрасить эту историю. Из хамелеона писатель сделал дружелюбное и милое животное, а над именем для него голову особо не ломал: Чебурашка! Так друзья писателя называли свою маленькую дочь, которая только училась ходить.
Впрочем, все остальные жители сказочной страны тоже возникли не на пустом месте. Успенский и не пробовал скрывать, что прототипом Шапокляк стала его первая супруга, а юные друзья крокодила Гены – это малыши, которые жили в одном дворе с писателем.
Всемирная слава

Этого не ожидал никто, и сам Успенский в первую очередь. Но его сказка про Чебурашку произвела настоящий фурор и не только на просторах СССР. В Японии странный зверёк с огромными ушами стал любимым персонажем. А в Швеции не раз издавались комиксы по произведениям Успенского. В Литве мультфильм перевели на государственный язык, несколько изменив имена героев. А в России 20 августа объявлен Днём рождения Чебурашки.
Пластилиновая ворона
Стихотворное произведение «Пластилиновая ворона» у Успенского родилось быстро и спонтанно. Как-то он почти целый день напевал привязавшуюся народную ирландскую песенку, и сам не заметил, как на этот мотив легли русские слова. В результате произведение, по котором был позже снят мультфильм, родилось буквально за полчаса.
Впрочем, от лёгкости своего рождения сказка ничуть не потеряла и стала действительно всенародно любимой.
И совсем немультяшные проекты

Были в творческой биографии Эдуарда Успенского и проекты, которые не имели никакого отношения к мультфильмам, но они всё же были посвящены детям. Он был создателем и ведущим популярной детской передачи «Абгдейка» и первым открыл систему интерактивного общения с юными зрителями. Он с экрана телевизора обучал малышей азбуке и грамматике, за что получал уйму благодарных отзывов от родителей. Позже Успенский напишет книгу «Школа клоунов», которая и сегодня является прекрасным помощников в учёбе.
В 1980-х Успенский ведёт радиопередачу «Пионерская зорька» и обращается к своим юным слушателям с необычной просьбой – присылать придуманные ими или услышанные страшные истории. Результатам такого творческого общения тала книга повестей с необычными сюжетами, а каждый ребёнок мог почувствовать себя причастным к её написанию.
Любитель путешествий
Успенский обожал путешествовать, при этом он точно знал, в каких странах были переведены его книги и какие любимые герои в той или иной стране. Объяснить почему в разных странах популярны разные персонажи он и сам не мог, и предпочитал просто радоваться по поводу популярности его книг.

Несколько последних лет Эдуард Николаевич боролся с онкологическим заболеванием. В августе 2018 года он вернулся из Германии, где проходил курс лечения, домой и состояние его резко ухудшилось. Он госпитализации он отказался и последние дни провёл дома, не вставая с кровати. 14 августа его не стало. Светлая память.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Читать онлайн “Веселые человечки: культурные герои советского детства” автора Ушакин Сергей Александрович – RuLit – Страница 1
Веселые человечки: культурные герои советского детства
Идея этого сборника родилась внезапно и осуществилась стремительно.
Во время конференции, происходившей в ноябре 2007 года, составители (еще не знающие об этом) и участники проекта (также не догадывающиеся об ожидающей их участи) в сугубо неформальной обстановке заговорили о любимых персонажах своего детства. О Буратино и Незнайке, Докторе Айболите и героях «Волшебника Изумрудного Города», Карандаше и Самоделкине, Карлсоне и Винни-Пухе, Хрюше и Степашке, Чиполлино и Чебурашке, коте Леопольде и Волке из «Ну, погоди!», Электронике и Масяне…. В июле 2008 года была получена последняя статья «Веселых человечков». Выходит девять месяцев: для деторождения — нормальный срок, для научного сборника — почти рекордный.
Мы тешим себя надеждой, что тема сборника обладает некоей притягательностью, которая не только мобилизовала наших героических авторов, но и заинтригует читателя. Нас первоначально поразила очевидность не замеченного доселе факта: существует не описанный и не опознанный в качестве такового пантеон героев советского (и постсоветского) детства. Эти герои хоть и были дозволены официальной культурой, но, скорее всего, стояли к ней как-то «боком» — во всяком случае, оформленная ими идеология сильно отличалась от советской [1].
Даже «маленький Ленин», как показывает в своей статье К. Богданов, по мере освоения этого образа детской культурой утратил свою идеологическую определенность.
Оказалось, что коллектив любимцев ограничен, хотя и какие-то персонажи, актуальные для одного поколения, могут значить гораздо меньше для другого, и наоборот. Но все эти персонажи обладают колоссальной символической силой и беспрецедентным обаянием. Они выступают в качестве иероглифов определенных социопсихологических состояний, которые сохраняют свою значимость на протяжении всей жизни бывшего ребенка — и потому из книжек или мультиков переходят в игры, названия фирм, продуктов, рекламу и т. п. Именно через этих любимых героев осуществляется вполне реальная и осязаемая связь между советскими и постсоветскими поколениями: Чебурашку или Винни-Пуха сегодняшние родители и дети любят одинаково; книжки об этих персонажах и других «веселых человечках» задают некий общий знаменатель культурного опыта, в остальном весьма несхожего …
Вот почему необходимо понять, в чем же состояла и состоит функция этих культурных героев. За каждым из них ощущается комплекс противоречий и даже поведенческих стратегий, явленных в игровом плане, часто комически, всегда эмоционально и никогда — дидактически. С. Ушакин в статье, открывающей сборник, предлагает, на наш взгляд, убедительное объяснение важности этих персонажей: по его мнению, они воплощали и восполняли нарастающий в позднесоветский период дефицит символических порядков, предлагая различные игровые сценарии символического — откровенно и иронически утилизирующего материал Воображаемого и вместе с тем неявно указывающего на лакановское Реальное: утрату, потерю, травму. Вот, кстати, почему среди героев (пост)советского детства меланхоликов явно больше, чем оголтелых оптимистов.
Такова широкая рама, в которой разворачиваются истории конкретных персонажей — их всегда неповторимые и в то же время открытые для читательского или зрительского «соавторства» версии символического, воображаемого и реального. Все вместе эти персонажи формируют легко опознаваемую мифологию советского и отчасти постсоветского детства — находящую свое продолжение и за пределами детства, формирующую ключевые дискурсивные формулы, влияющие на сознание и самосознание взрослых уже людей. Именно контуры, смысл и эффекты этой мифологии и этих формул пытаются нащупать авторы настоящего сборника.
Как подлинно мифологические персонажи, все наши герои — и это был наш важнейший принцип отбора «веселых человечков» — существуют больше чем в одной медиальной среде. Как правило появляясь в качестве персонажей книги, они часто обретают популярность на кино, или телеэкране, а затем мультиплицируются в сиквелах, игрушках, вещах и потребительских брендах.
Вот почему некоторые статьи сборника сосредоточены на том, как в определенной медиальной среде функционирует конкретный образ. Так, о книжках о Буратино, Айболите, Волшебнике Изумрудного Города, Незнайке и Винни-Пухе пишут соответственно М. Липовецкий, К. Платт, Э. Несбет, И. Кукулин и Н. Смолярова. Фильмам и мультфильмам о Буратино, Волке и Зайце, Чебурашке, Леопольде, троице из Простоквашино, Масяне посвящены статьи А. Прохорова, Л. Кагановской, С. Кузнецова и К. Ключкина, А. Бараша, Е. Барабан, Б. Боймерс. А К. Богданов (статья о маленьком Ленине), М. Майофис (статья о Карлсоне), Е. Прохорова (статья о Хрюше и Степашке), Ю. Левинг (статья о Винни-Пухе), И. Кукулин (статья об Электронике) наблюдают за тем, как трансформируется смысл конкретного образа при его перемещениях из одной медальной среды в другую, как изменяется идеологическая интерпретация, сопутствующая этим «переездам»; ведь часто герой появляется в одну эпоху, а популярность обретает в другую — и это очень разные лики героя. Так, скажем, Пух Заходера не похож на Винни-Пуха Хитрука (об этом пишет Ю. Левинг), а Карлсон первых переводов на русский (конец 1950-х) совсем не тот герой, что заговорил голосом В. Ливанова с телеэкранов в конце 1960-х — начале 1970-х (см. статью М. Майофис).
Медиальные трансформации героев чаще всего зримо оформляют именно исторические сдвиги культуры; причем в них, рискнем утверждать, более отчетливо, чем в любой другой культурной области, резонируют невидимые, неидеологические перемены — среды, психологии, одним словом, хабитуса.
Кроме того, многие из этих героев (что вообще характерно для русской культурной истории) претерпевают натурализацию, из иностранцев превращаясь в соотечественников. Такова судьба Буратино и Айболита, Карлсона и Винни-Пуха… Не случайно проблема перевода занимает такое место в статьях К. Платта об Айболите и его предшественнике Докторе Дулитле и Н. Смоляровой об англо- и русскоязычном Винни-Пухах.
Наконец, еще одно важное обстоятельство. Поскольку речь в сборнике идет о культурных героях нашего детства, откровенно эссеистическое и импрессионистическое письмо используется в «Веселых человечках» наряду с научными методами историко-культурного анализа. Мы предвидим, что наш сборник попадет под перекрестный огонь упреков в неосновательности (как «несерьезного» материала, так и ненаучного анализа), с одной стороны, и «заумности» (если не занудстве), с другой. Но с полным пониманием опасности данной стратегии, мы сознательно идем на соседство методологически различных текстов, объединенных лишь общностью предмета письма.
Во-первых, в этом состоит экспериментальность сборника — ведь нас интересует не только рациональное описание культурной функции Чебурашки или Электроника, но и экзистенциальное наполнение этих образов — последнее, понятно, более доступно для эмоционально-эссеистического, чем для строго научного письма. Во-вторых, мы рассчитываем на некий стереоскопический эффект, который может возникнуть, когда личные реакции одного автора наложатся на аналитическую логику другого. В-третьих, мы хотели бы, чтобы эта книга была интересна не только профессиональным гуманитариям — мы надеемся, что и наши дорогие коллеги, и те, кому просто любопытно узнать побольше о «веселых человечках», найдут в нашем сборнике тексты по своему вкусу.
К сожалению, нам не удалось описать всех заслуживающих того персонажей. За пределами сборника остались Карандаш и Самоделкин, Чиполлино, мумии-тролли и, возможно, некоторые другие «веселые человечки». За все эти упущения полную ответственность несут составители сборника, которые обязуются при будущих переизданиях этой книги (а их будет ох как много! ☺) восполнить наличествующие лакуны. Пока же мы хотели бы выразить горячую признательность всем авторам сборника, которые в рекордные сроки, бросив текущие дела, принялись писать и написали замечательные статьи о «веселых человечках». Особая благодарность — Константину Богданову, Сергею Ушакину, Сергею Кузнецову и Александру Дмитриеву, помогавшим составителям своими критическими советами, а также Сергею Степанову и Дине Назаровой — за неустанную техническую и моральную поддержку. И конечно — спасибо Ирине Прохоровой, поддержавшей идею сборника, когда она только забрезжила в конференционном чаду, и доведшую этот проект до книжного воплощения.
Первым на этот феномен указал Мирон Петровский в своей, видимо, уже классической работе «Книги нашего детства» (М., 1986; 2-е изд. — СПб., 2006) — однако у этой работы, помимо вынужденных цензурных ограничений (первое издание этой книги, соответствующее авторскому замыслу, вышло только в 2006 году), были и методологические, обозначенные, в частности, уже самим названием: Петровский пишет только о литературных текстах, мы же — о феномене своего рода детского «пантеона», персонажи которого имеют сложные и менявшиеся во времени социокультурные функции.
Источники:
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2981855-eduard-uspenskij-djadja-fedor-pes-i-kot-kto-glavnye-geroi.html
http://kulturologia.ru/blogs/140818/40118/
http://www.rulit.me/books/veselye-chelovechki-kulturnye-geroi-sovetskogo-detstva-read-375201-1.html