Западном фронте без перемен жанр. Эрих мария ремарк – на западном фронте без перемен
Билеты (вариант 1)
Творчество Ремарка. «На западном фронте без перемен».
Творчество Ремарка. «На западном фронте без перемен».
Эрих Мария Ремарк (настоящее имя Эрих Пауль Ремарк) родился в 1898 году в городе Оснабрюке. Его отец был владельцем небольшой переплетной мастерской. Ремарк учился в местной гимназии, но не окончил ее, так как в 1915 году был призван в армию и до конца войны пробыл в окопах Западного фронта. Был ранен пять раз. После демобилизации закончил учительские курсы, открытые правительством Веймарской республики для бывших солдат. В течение года он учительствовал в одной из деревушек вблизи голландской границы. Но вскоре будущий писатель разочаровался в этой работе: школьные программы не согласовывались с его представлениями о жизни.
Бросив преподавание, Ремарк возвратился в Оснабрюк. Настали тяжелые годы инфляции, и он брался за любую работу – тесал камни на кладбище, играл на органе в церкви психиатрической лечебницы, бродил по стране. В 1923 г. Ремарк переселился в Берлин. Он шофер-испытатель в фирме, изготовляющей автомобильные покрышки, потом журналист в газетном концерне Гугенберга. Благодаря своему литературному дарованию Ремарк быстро выдвинулся на этом поприще и в 1928-1929 гг. уже занимал пост заместителя редактора популярного журнала “Шпорт им бильд”.
Первое опубликованное произведение Ремарка (если не считать юношеских стихов) – “О смешивании тонких водок” 1924 год. Это была слабая книга, оставшаяся почти незамеченной, как и прочие ранние литературные опыты. Слава пришла к нему, когда он выпустил в 1929 году роман “На Западном фронте без перемен”. Эта сравнительно небольшая по объему книга заняла особое место в немецкой и мировой литературе. В течение одного года ее тираж в Германии достиг 1200 тысяч экземпляров. Переводы на большинство ведущих языков мира довели эту цифру до 5 миллионов. Причина такого грандиозного успеха в необычайной правдивости изображения страшных окопных будней. На войне, которую рисует Ремарк, нет ни развевающихся знамен, ни великолепных подвигов, а только кровь и грязь траншей, и короткие дни передышек в прифронтовой полосе. Ремарк не был первым, кто разоблачал преступность войны. То же самое делали и до него многие художники – в первую очередь Анри Барбюс в своем знаменитом “Огне”. Однако Барбюс осмыслял войну, прежде всего, как явление социальное, и в этом значение его книги. Ремарк же изобразил войну как индивидуальное переживание. Его внимание привлекает психология героев, их эмоции, так как он хочет показать войну такой, какой видели ее участники – то поколение молодых немцев, “которое погубила война, кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов”.
Следующая книга Ремарка – роман “Возращение” (1931г.). Это рассказ о тех, кто, выжив на войне, был раздавлен миром. В 1932 г. Ремарк, в связи с ухудшением здоровья, уезжает в Порто Ронко. Здесь его застает весть о нацистском перевороте. Фашистские правители сожгли книги Ремарка. А позднее лишили его германского подданства. Живя в изгнании, Ремарк не принимал участия в антифашистской борьбе, сторонился эмигрантских организаций. Он работал для Голливуда, особенно в связи с экранизацией его произведений. Лишь в 1937 году после шестилетнего молчания Ремарк опубликовал роман “Три товарища” сначала в США в английском переводе, а потом в 1938 г. в немецком эмигрантском издательстве. Действие книги начинается в 1928 году. Ее главные герои – Робби Локамп (от его имени ведется рассказ), Отто Кестнер и Готфрид Ленц – фронтовые товарищи, которые ныне совместно владеют маленькой авторемонтной мастерской. Социальный фон несколько расплывчат, стерты конкретные признаки места и времени, предельно сужен круг повествования. Но художнику удалось запечатлеть основные черты жизни Германской столицы в годы, предшествовавшие победе фашизма, – этот лихорадочный ритм, это нестерпимое ощущение зыбкости уходящей из-под ног почвы, щемящую боль безнадежности и нарастающее недовольство.
В романе “Три товарища” определились особенности художественной манеры писателя, тот специфический колорит его произведений, который можно назвать “ремарковским”. Мир Ремарка – мир “настоящих мужчин”, сильных, смелых, сдержанных. Позади у них тяжелая школа мировой войны, путь страданий, обманутых надежд и низвергнутых идолов. Это сделало их немного циничными, грубоватыми, скупыми на слова, отучило от чрезмерной восторженности. Но под тонким слоем льда, сковавшего души, таится нерастраченный запас горячих чувств, ждущих лишь повода, чтобы вырваться наружу. Таким поводом является любовь Робби к Пат.
В начале 1939 года Ремарк уезжает в США, В Лос-Анджелес и в 1942 году принимает американское подданство. В период второй мировой войны художник создал два романа – “Возлюби ближнего своего” (1940 г.) и “Триумфальная арка” (1946 г.), в которых изображена судьба немецких эмигрантов.
Но, ненавидя фашизм, испытывая презрение к немощной буржуазной демократии, Ремарк не приемлет и социалистические идеи. Он остается верен своему “благородному индивидуалисту”, “романтику, лишенному иллюзий”. Именно такой герой стоит в центре следующей книги – романа “Триумфальная арка”. Он именует себя Равик. Обладая железной волей и спокойным мужеством, Равик не был сломлен ни концлагерем, ни эмиграцией. Но он замкнулся в себе, стал жестоким, холодным человеком действия. Одиночество – не только удел Равика, но и его жизненная программа.
В романах периода второй мировой войны появляется новый для Ремарка герой – юноша послевоенного поколения, характер которого показан в развитии и формируется под влиянием жизни Европы 30-х гг. Изменяется и манера повествования. Рассказ от первого лица уступает место повествованию авторскому.
Годы спустя после завершения второй мировой войны Ремарк обращается непосредственно к антифашистской теме. В 1952 г. он выпускает в свет роман “Искра жизни”, где изображается один из нацистских концентрационных лагерей. В 1954 г. Ремарк создает другой роман “Время жить и время умирать”, который является одним из кульминационных пунктов его творческой биографии и снова касается проблем войны.
В 1954 году Ремарк переселяется в Европу. Месяцы проводит писатель в ФРГ, наблюдая жизнь страны. И многое, что он видит, напоминает ему первые годы Веймарской республики. Такое сопоставление не только помогало Ремарку понять старые ошибки, но и побудило художника выступить с предостережением, обращенным к немецкой молодежи. Так возник роман “Черный обелиск”, книга, повествующая о прошлом, но направленная в настоящее.
Ремарк возвращается к началу 20-х годов, к дням юности своих любимых героев. Повествование ведется от имени бывшего солдата Людвига Бодмера, который служит в фирме, изготавливающей надгробные памятники. Старший владелец фирмы – Георг Кроль – фронтовой товарищ Людвига. Оба они прилагают отчаянные усилия, чтобы просуществовать в обстановке кризиса и инфляции.
“Черный обелиск” необычайно насыщен автобиографическим материалом, книга не имеет четкого сюжетного стержня, в ней сравнительно мало действия, основную ткань романа составляют размышления, диалоги. Такое композиционное построение вытекает из задачи переосмыслить путь, которым шла между двумя мировыми войнами немецкая интеллигенция, поставить вопрос о самом смысле и цели человеческого бытия. В том же 1956 году Ремарк написал пьесу “Последняя остановка”. До сих пор он ни разу не пробовал своих сил в этом жанре, однако, опыт вышел неудачным.
В 1959 в гамбургском журнале “Кристалл” Ремарк опубликовал роман “Жизнь взаймы”. Читатель вновь соприкасается с уже знакомой ему по “Трем товарищам” атмосферой высокогорного туберкулезного санатория, снова перед глазами гоночная машина. На ней в санаторий прибывает профессиональный гонщик Клерфе и знакомится с неизлечимо больной девушкой Лилиан. Она уезжает вместе с ним “вниз”, желая насладиться напоследок радостями жизни. Сюжетная основа книги – любовь героев. Идейный же ее центр – метафизические проблемы жизни и смерти.
В двух последних своих романах “Ночь в Лиссабоне” и “Тени в раю” Ремарк вернулся к испытанным темам – изображению трагических судеб немецкой антифашистской эмиграции.
Тяжело больной, перенесший несколько инфарктов, Ремарк жил в середине 60-х годов безвыездно в своем доме в Швейцарии, почти никого не принимал, неохотно давал интервью для прессы. Он спеши. По его собственным словам, времени у него оставалось немного, а хотелось закончить роман. Роман этот – “Тени в раю” – увидел свет в 1971 г. Почти через год после того, как писателя не стало.
Э. М. Ремарк занимает особое место в современной немецкой литературе. Он никогда не примыкал ни к какому направлению. У него свой круг проблем, свои “ремарковские” герои, своя манера видеть и рисовать действительность. Однако многие критики считают, что если бы Ремарк остался автором только одного романа – “На Западном фронте без перемен” – то его след в немецкой и мировой литературе рассматривался бы как более значительный. Так как с каждым последующем произведением он, в глазах этих критиков, все определеннее смещался в сторону того, что принято называть “беллетристикой”. “На Западном фронте без перемен” явился подлинным шедевром писателя (1929) – поразительно простая и правдивая книга о войне, о тех ее жертвах, что вошли в историю как «потерянное поколение». Это – история убийства на войне семи одноклассников, отравленных шовинистической пропагандой в школах кайзеровской Германии и прошедших подлинную школу на холмах Шампани, у фортов Вердена, в сырых и грязных окопах на Сомме. Здесь оказались уничтоженными понятия о добре и зле, обесцененными нравственные принципы. За один день мальчики превратились в солдат, чтобы вскоре быть бессмысленно убитыми. Они постепенно осознавали свое ужасающее одиночество, свою старость (хотя каждому из них было не более двадцати) и обреченность: «из клетки войны один выход – быть убитым».
Ведущая в романе тема бессмысленности войны осознается ее героями как простая истина: убитый тобой – не твой враг, он – такой же несчастный. Пауль вглядываетс я в документы убитого им француза-печатника Жерара Дюваля, в фотографию его жены и дочери. «Прости меня, товарищ! – говорит он. – Мы всегда слишком поздно прозреваем. Ах, если бы нам почаще говорили, что вы такие же несчастные маленькие люди, как и мы, что вашим матерям так же страшно за своих сыновей, как и нашим, и что мы с вами одинаково боимся смерти, одинаково умираем и одинаково страдаем от боли!». Пауль будет убит последним из семи одноклассников, в октябре 1918 года, «в один из тех дней, когда на фронте было так тихо и спокойно, что военные сводки состояли из одной только фразы: «На Западном фронте без перемен».
В романе Ремарка – жестокая правда и тихий пафос неприятия войны, что определило жанровые особенности книги как психологической повести-палача, хотя, в отличие от Олдингтона, подчеркнувшего, что он писал реквием, Ремарк нейтрален. Он пишет в эпиграфе: «Эта книга не является ни обвинением, ни исповедью. Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, кто стал ее жертвой даже если спасся от снарядов». Автор не ставил целью докапываться до истинных виновников войны, хотя его позиция достаточно четко выражена на страницах романа устами его героев, как в этом фрагменте: «… Кропп – философ. Он предлагает, чтобы при объявлении войны устраивалось нечто вроде празднества, с музыкой и с входными билетами, как во время боя быков. Затем на арену должны выйти министры и генералы враждующих стран, в трусиках, вооруженные дубинками, и пусть они схватятся друг с другом. Кто останется в живых, объявит свою страну победительницей. Это было бы проще и справедливее, чем то, что делается здесь, где друг с другом воюют совсем не те люди». Писатель ищет лекарство для утоления боли в вечных ценностях и радостях человеческого общения, суровом мужском братстве.
Романы Ремарка пользовались большой популярностью в нашей стране. Они экранизировались и переиздавались на многих языках. Успех им принесла доверительная манера повествования, без риторики и патетики, сдержанное немногословие речи. Читатель с благодарностью открывал для себя у Ремарка верность простым чувствам, любви и дружбе, тот огонек доброты, который придает надежду и в те времена, когда рушится все рушится и фальсифицируется, а люди озлобляются. Хотя бы на время приносили утешение мысли его героев о бессмысленном круговороте бытия, одиночестве как вечном рефрене жизни.
Ремарк виртуозно владел классической романной формой. Он обходился без формальных новшеств, следуя лишь правде передачи психологических состояний и занимательности сюжетных коллизий. Правда, в последних романах это нередко приводило писателя к повторам и банальностям.
Эрих Мария Ремарк – На Западном фронте без перемен
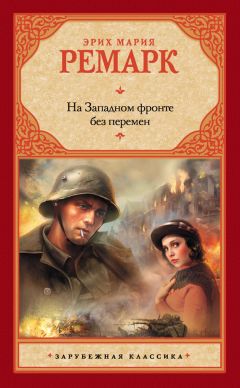





Описание книги “На Западном фронте без перемен”
Описание и краткое содержание “На Западном фронте без перемен” читать бесплатно онлайн.
Их вырвали из привычной жизни… Их швырнули в кровавую грязь войны… Когда-то они были юношами, учившимися жить и мыслить. Теперь они – пушечное мясо. Солдаты. И учатся они – выживать и не думать. Тысячи и тысячи навеки лягут на полях Первой мировой. Тысячи и тысячи вернувшихся еще пожалеют, что не легли вместе с убитыми. Но пока что – на западном фронте все еще без перемен…
Эрих Мария Ремарк
На Западном фронте без перемен
Эта книга не является ни обвинением, ни исповедью. Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов.
Erich Maria Remarque
IM WESTEN NICHTS NEUES
Перевод с немецкого Ю.Н. Афонькина
Серийное оформление А.А. Кудрявцева
Компьютерный дизайн А.В. Виноградова
Печатается с разрешения The Estate of the Late Paulette Remarque и литературных агентств Mohrbooks AG Literary Agency и Synopsis.
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
© The Estate of the Late Paulette Remarque, 1929
© Перевод. Ю.Н. Афонькин, наследники, 2014
© Издание на русском языке AST Publishers, 2014
Мы стоим в девяти километрах от передовой. Вчера нас сменили; сейчас наши желудки набиты фасолью с мясом, и все мы ходим сытые и довольные. Даже на ужин каждому досталось по полному котелку; сверх того мы получаем двойную порцию хлеба и колбасы, – словом, живем неплохо. Такого с нами давненько уже не случалось: наш кухонный бог со своей багровой, как помидор, лысиной сам предлагает нам поесть еще; он машет черпаком, зазывая проходящих, и отваливает им здоровенные порции. Он все никак не опорожнит свой «пищемет», и это приводит его в отчаяние. Тьяден и Мюллер раздобыли откуда-то несколько тазов и наполнили их до краев – про запас. Тьяден сделал это из обжорства, Мюллер – из осторожности. Куда девается все, что съедает Тьяден, – для всех нас загадка. Он все равно остается тощим, как селедка.
Но самое главное – курево тоже было выдано двойными порциями. На каждого по десять сигар, двадцать сигарет и по две плитки жевательного табаку. В общем, довольно прилично. На свой табак я выменял у Катчинского его сигареты, итого у меня теперь сорок штук. Один день протянуть можно.
А ведь, собственно говоря, все это нам вовсе не положено. На такую щедрость начальство не способно. Нам просто повезло.
Две недели назад нас отправили на передовую сменять другую часть. На нашем участке было довольно спокойно, поэтому ко дню нашего возвращения каптенармус получил довольствие по обычной раскладке и распорядился варить на роту в сто пятьдесят человек. Но как раз в последний день англичане вдруг подбросили свои тяжелые «мясорубки», пренеприятные штуковины, и так долго били из них по нашим окопам, что мы понесли тяжелые потери, и с передовой вернулось только восемьдесят человек.
Мы прибыли в тыл ночью и тотчас же растянулись на нарах, чтобы первым делом хорошенько выспаться; Катчинский прав: на войне было бы не так скверно, если бы только можно было побольше спать. На передовой ведь никогда толком не поспишь, а две недели тянутся долго.
Когда первые из нас стали выползать из бараков, был уже полдень. Через полчаса мы прихватили наши котелки и собрались у дорогого нашему сердцу «пищемета», от которого пахло чем-то наваристым и вкусным. Разумеется, первыми в очереди стояли те, у кого всегда самый большой аппетит: коротышка Альберт Кропп, самая светлая голова у нас в роте и, наверно, поэтому лишь недавно произведенный в ефрейторы; Мюллер Пятый, который до сих пор таскает с собой учебники и мечтает сдать льготные экзамены: под ураганным огнем зубрит он законы физики; Леер, который носит окладистую бороду и питает слабость к девицам из публичных домов для офицеров: он божится, что есть приказ по армии, обязывающий этих девиц носить шелковое белье, а перед приемом посетителей в чине капитана и выше – брать ванну; четвертый – это я, Пауль Боймер. Всем четверым по девятнадцати лет, все четверо ушли на фронт из одного класса.
Сразу же за нами стоят наши друзья: Тьяден, слесарь, тщедушный юноша одних лет с нами, самый прожорливый солдат в роте – за еду он садится тонким и стройным, а, поев, встает пузатым, как насосавшийся клоп; Хайе Вестхус, тоже наш ровесник, рабочий-торфяник, который свободно может взять в руку буханку хлеба и спросить: «А ну-ка отгадайте, что у меня в кулаке?»; Детеринг, крестьянин, который думает только о своем хозяйстве и о своей жене; и, наконец, Станислав Катчинский, душа нашего отделения, человек с характером, умница и хитрюга, – ему сорок лет, у него землистое лицо, голубые глаза, покатые плечи и необыкновенный нюх насчет того, когда начнется обстрел, где можно разжиться съестным и как лучше всего укрыться от начальства.
Наше отделение возглавляло очередь, образовавшуюся у кухни. Мы стали проявлять нетерпение, так как ничего не подозревавший повар все еще чего-то ждал.
Наконец Катчинский крикнул ему:
– Ну, открывай же свою обжорку, Генрих! И так видно, что фасоль сварилась!
Повар сонно покачал головой:
– Пускай сначала все соберутся.
Повар все еще ничего не заметил:
– Держи карман шире! Где же остальные?
– Они сегодня не у тебя на довольствии! Кто в лазарете, а кто и в земле!
Узнав о происшедшем, кухонный бог был сражен. Его даже пошатнуло:
– А я-то сварил на сто пятьдесят человек!
Кропп ткнул его кулаком в бок:
– Значит, мы хоть раз наедимся досыта. А ну давай, начинай раздачу!
В эту минуту Тьядена осенила внезапная мысль. Его острое, как мышиная мордочка, лицо так и засветилось, глаза лукаво сощурились, скулы заиграли, и он подошел поближе:
– Генрих, дружище, так, значит, ты и хлеба получил на сто пятьдесят человек?
Огорошенный повар рассеянно кивнул.
Тьяден схватил его за грудь:
Повар опять кивнул своей багровой, как помидор, головой. У Тьядена отвисла челюсть:
Тьяден обернулся к нам, лицо его сияло:
– Черт побери, вот это повезло! Ведь теперь все достанется нам! Это будет – обождите! – так и есть, ровно по две порции на нос!
Но тут Помидор снова ожил и заявил:
– Так дело не пойдет.
Теперь и мы тоже стряхнули с себя сон и протиснулись поближе.
– Эй ты, морковка, почему не выйдет? – спросил Катчинский.
– Да потому, что восемьдесят – это не сто пятьдесят!
– А вот мы тебе покажем, как это сделать, – проворчал Мюллер.
– Суп получите, так и быть, а хлеб и колбасу выдам только на восемьдесят, – продолжал упорствовать Помидор.
Катчинский вышел из себя:
– Послать бы тебя самого разок на передовую! Ты получил продукты не на восемьдесят человек, а на вторую роту, баста. И ты их выдашь! Вторая рота – это мы.
Мы взяли Помидора в оборот. Все его недолюбливали: уже не раз по его вине обед или ужин попадал к нам в окопы остывшим, с большим опозданием, так как при самом пустяковом огне он не решался подъехать со своим котлом поближе и нашим подносчикам пищи приходилось ползти гораздо дальше, чем их собратьям из других рот. Вот Бульке из первой роты, тот был куда лучше. Он хоть и был жирным, как хомяк, но уж если надо было, то тащил свою кухню почти до самой передовой.
Мы были настроены очень воинственно, и, наверно, дело дошло бы до драки, если бы на месте происшествия не появился командир роты. Узнав, о чем мы спорим, он сказал только:
– Да, вчера у нас были большие потери…
Затем он заглянул в котел:
– А фасоль, кажется, неплохая.
– Со смальцем и с говядиной.
Лейтенант посмотрел на нас. Он понял, о чем мы думаем. Он вообще многое понимал – ведь он сам вышел из нашей среды: в роту он пришел унтер-офицером. Он еще раз приподнял крышку котла и понюхал. Уходя, он сказал:
– Принесите и мне тарелочку. А порции раздать на всех. Зачем добру пропадать.
Физиономия Помидора приняла глупое выражение. Тьяден приплясывал вокруг него:
– Ничего, тебя от этого не убудет! Воображает, будто он ведает всей интендантской службой. А теперь начинай, старая крыса, да смотри не просчитайся.
– Сгинь, висельник! – прошипел Помидор. Он готов был лопнуть от злости; все происшедшее не укладывалось в его голове, он не понимал, что творится на белом свете. И как будто желая показать, что теперь ему все едино, он сам роздал еще по полфунта искусственного меду на брата.
День сегодня и в самом деле выдался хороший. Даже почта пришла; почти каждый получил по нескольку писем и газет. Теперь мы не спеша бредем на луг за бараками. Кропп несет под мышкой круглую крышку от бочки с маргарином.
На правом краю луга выстроена большая солдатская уборная – добротно срубленное строение под крышей. Впрочем, она представляет интерес разве что для новобранцев, которые еще не научились из всего извлекать пользу. Для себя мы ищем кое-что получше. Дело в том, что на лугу там и сям стоят одиночные кабины, предназначенные для той же цели. Это четырехугольные ящики, опрятные, сплошь сколоченные из досок, закрытые со всех сторон, с великолепным, очень удобным сиденьем. Сбоку у них есть ручки, так что кабины можно переносить.
На Западном фронте без перемен, почему обязательно нужно прочесть
Творчество знаменитых мексиканских супругов, писателей, Эриха и Марии Ремарков, давно стало классикой. Они писали очень хорошие книги, где главные герои раскрывали свой внутренний мир. Русские прогрессивные писатели и поэты дружили с четой Ремарков. Например, хорошо известны встречи супругов Ремарков и братьев близнецов Салтыкова и Щедрина.
После того, как автор показал образец своего юмора (люблю, знаете ли, Властелин Колец, в переводе Пучкова и все в таком духе), хочу рассказать о романе «На Западном фронте без перемен». Конечно же , это произведение Эриха Марии Ремарка не нуждается в дополнительной рекламе. Как и сам писатель. Но, после вчерашнего обзора фантастического произведения военной тематики, решил, что обзор «На западном фронте…» должен быть тут, на моем канале. Так что, не ругайте меня уж слишком сильно. Хотя ругайте, чего уж там…
Кратко о сюжете романа. Речь в нем идет о событиях Первой Мировой Войны. Молодой немец Пауль Боймер, как и миллионы других мужчин ,призван в армию Второго Рейха. В стране патриотический подъем. Многие готовы встать на защиту Фатерлянда, от славян с востока и французов с Запада. Война, кажется легкой прогулкой, враг будет быстро побежден. Немецкая нация, дисциплинированная и передовая в техническом плане, несомненно, разберется с ленивыми французами и безалаберными русскими. Первые же военные столкновения, быстро развеивают ура-патриотические мечты. Молох войны, перемалывает солдат в очень быстром темпе. Рота Боймера, теряет большую часть своего состава. Конца и края бойне не видно.
События романа переносят нас также в тыл. Где обыватель, далекий от ежедневных массовых смертей, еще не наигрался в войну, еще живо интересуется ее событиями и атрибутикой. Пауль Боймер, попавший в тыл, подавлен, сломлен и растерян. Несоответствие фронта и тыла, еще больше опустошает молодого человека.
Не за что воевать, незачем жить (лишь по звериному выжить, главный мотив солдата), нет ненависти к противнику (хорошо это показано в эпизодах, где главный герой, сталкивается с пленными русскими). Смерть, голод, холод – все, что остается в мире Боймера и его сослуживцев. Где бывалые солдаты и в то же время очень молодые мужчины, по звуку выстрела и неуловимым признакам меняют позицию, знают как вести себя при атаке и обороне. Но и они всего лишь люди. Один за одним, умирают однополчане главного героя, те, с кем он делит окоп и пайку. И так, до самого поражения страны. Пауль Боймер, гибнет в октябре 1918 года, «за минуту» до мира.
Не хочется повторять избитые фразы, про бессмысленность войны и ее ужасы. Коснусь иной темы. Роман, написанный в конце 20-х гг., оказался не востребован в немецком обществе. Страх войны из общественного сознания Германии, уступает место, чувству глубокого национального унижения. Германия проиграла, но те кто выжил, жаждут реванша. Экономический кризис конца 20-хх, лишь усугубляет эти настроения. Экономические элиты мечтают о новых ресурсах и территориях. Военные элиты о восстановлении армии и новых победах. Миллионы обывателей , винят в бедах и неустроенности. победителей немцев. Гитлер, стал олицетворением немецкого общественного сознания. Поколение, пережившее мировую бойню, не вынесло из войны урока и отправило своих детей, умирать в новой войне. Лишь новое поражение пригасило немецкий милитаризм. Надолго пригасило.
Та война, наложила глубокий отпечаток, на все воюющие европейские нации. Франция пережив шок, оказалась неспособна к новой войне с Германией. В нашей стране, в 1914 году, десятки тысяч в едином порыве и экстазе чествовали государя, перед Зимним дворцов. Через четыре года, эти же люди бросали винтовки – «наплявать, наплявать, надоело воевать», что-бы резать своих же, в войне красных и белых, зеленых и пр.
Прошло сто лет, как кончилась Первая Мировая Война, почти 75, после окончания Великой Отечественной. Все меньше и меньше человечество задумывается о страхе перед тотальной бойней. Это выражается и в заявлениях политиков и генералов, которые с легкостью уже фантазируют, на тему побед, над ядерными державами. Особенно, в последнее время, такого добра можно услышать, от наших «западных партнеров». Все больше и больше этого и на низовом уровне. В сети и обывательских разговорах. «Можем повторить», «бухал солдат, слеза катилась, играл трофейный патифон, а на груди его светилась, медаль за город Вашингтон». Так сказать, «народное» творчество.
Война и военная тематика, часть человеческой цивилизации, часть человеческой культуры. Мы все, с удовольствием читаем фантастику, где она, почти всегда, главная тема. Режемся в компьютерные игрушки, «мочим врагов». От этого никуда не уйти. И наверное и не нужно. Иногда и Я, буду выкладывать обзоры, на тему фантастики ближнего боя. Просто нам современникам, время от времени, нужно почитывать Ремарка и Гашека, помнить трагическое прошлое ВОВ, за «можем повторить» – погибли миллионы и миллионы жизней советских людей. Жертва эта не напрасна, иначе было нельзя, но бравировать не стоит.
Сублимация национальных поражений никого до добра не доводила. Не доведет и нас, бесконечное пережевывание краха 90-х. Как случилось это с немцами. После обзора на бравого солдата Швейка – Гашека, один из читателей в комментарии, детально расписал, какие чехи вовсе не невинные ребята. Как они буянили в Гражданскую, в России, как сдались Гитлеру без боя и пр. А ведь обзор был вовсе не о том, кто хороший, кто не очень.
Извиняюсь за немного сумбурное изложение, всего доброго. Думаю к данному обзору, прикреплять еще и фантастический рассказ или повесть лишнее.
Источники:
http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/bilety/bilety-1/bilet-26.htm
http://www.libfox.ru/645097-erih-mariya-remark-na-zapadnom-fronte-bez-peremen.html
http://zen.yandex.ru/media/id/5c8f50adaedd2500b361ff31/5cb579fb03be7000b456bd27



