В пстгу презентовали книгу протопресвитера александра шмемана «основы русской культуры. Доктор чехов как религиозный тип
В ПСТГУ презентовали книгу протопресвитера Александра Шмемана «Основы русской культуры»
11 декабря 2017 года в Соборной палате Главного здания Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета состоялась презентация книги известного проповедника и богослова протопресвитера Александра Шмемана «Основы русской культуры».
В мероприятии приняли участие ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьёв, редактор-составитель книги Елена Дорман, старший редактор издательства ПСТГУ Егор Агафонов и сын автора книги, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сергей Шмеман.
Протопресвитер Александр Шмеман широко известен как богослов, литургист, церковный деятель, многолетний ректор Свято-Владимирской семинарии в штате Нью-Йорк, автор книг и статей по богословию, а также «Дневников», опубликованных уже после его кончины.
Открывая презентацию, ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьёв приветствовал всех собравшихся. «Сегодняшнее событие для нас является очень значимым потому, что имя отца Александра Шмемана все больше привлекает внимание и любовь людей. Мы постоянно на разных университетских курсах цитируем отца Александра, опираемся на его авторитет», – сказал ректор ПСТГУ. «В частности, я читаю курс «Введение в литургическое предание» и постоянно вспоминаю, как в юности с волнением ждал, когда появится очередная глава о литургии в “Вестнике русского христианского движения”. Тогда эти главы, можно сказать, были открытием для нас», – подчеркнул отец Владимир.
В книге, вышедшей в издательстве ПСТГУ, впервые практически в полном объеме (без ненайденной первой) опубликован цикл бесед, которые протоиерей Александр Шмеман вел на Радио «Свобода» в 1970-1971 гг. Эти тексты – проницательный анализ основных характерных черт и тенденций русской культуры, вдумчивое размышление о ее прошлом и о будущем. «Русская культура – это удивительная симфония, в которой наполненные печалью мелодии в конечном итоге преображаются в хвалу добру, истине и красоте», – утверждал отец Александр.
По словам издателя книги, старшего редактора издательства ПСТГУ Егора Агафонова, основу публикации составил цикл бесед, которые не дошли до нас в аудиоверсии. «Они сохранились только в машинописном варианте, но, поскольку отец Александр очень много говорил в своих воскресных радиобеседах на радио «Свобода» на тему культуры, мы сделали в книге небольшое приложение и из этих, ранее уже опубликованных, бесед”, – сообщил он. Егор Агафонов предложил всем пришедшим на презентацию послушать одну короткую, но очень яркую и выразительную беседу отца Александра Шмемана о творчестве Пушкина. Старший редактор издательства ПСТГУ также напомнил, что в следующем году исполнится 35 лет со дня кончины протопресвитера Александра Шмемана, но тем не менее его новые, ранее не публиковавшиеся книги продолжают выходить. Одной из самых значительных посмертных публикаций и стал этот цикл бесед о русской культуре.
Книгу «Основы русской культуры» собрала и подготовила к печати переводчик и редактор Елена Дорман. Более 20 лет она жила в Нью-Йорке и лично знала отца Александра.
Редактор-составитель книги, главный публикатор других книг и статей отца Александра Елена Дорман рассказала о том, что эти беседы случайно были найдены в архиве Татьяны Варшавской, переданном в Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. «Бесед было девять, и на книжку они не тянули. Я пыталась найти и другие, – уточнила Елена Дорман. – Потом совершенно случайно все 30 бесед – машинописные скрипты отца Александра – были найдены в подвале одной умершей женщины, когда-то работавшей на радио в Мюнхене. Эта находка позволила сделать книгу».
Сын автора книги, журналист Сергей Шмеман рассказал, что, едва начав читать, узнал для себя много нового. «Прошло уже 34 года, как мой отец скончался. За это время у меня накопилось к нему большое количество вопросов. Я всё хочу его спросить о том, что он думает о России, о Церкви, о ситуации в мире. К моей радости, в этой книге было много ответов на вопросы о литературе и поэзии, о важности культуры в русском сознании и о православной вере. Для меня эта книга является своеобразным путеводителем по культуре России», – поделился впечатлениями Сергей Шмеман.
По его словам, отец Александр всегда считал связь с Россией важной частью своей жизни. «Хотя и были люди, которые говорили, что он ушёл в Американскую Церковь, покинул русский народ, но это было абсолютно не так. Связь с Россией поддерживалась не только через «Радио Свобода», где отец три десятка лет вел беседы, но и посредством встреч, начавшихся, когда из Союза стали выезжать сотни советских эмигрантов. Этот контакт с Россией был большой частью его жизни», – считает Сергей Шмеман.
В заключение встречи были показаны несколько разделов документального фильма «Апостол радости» о жизни отца Александра. Работа над фильмом продолжалась три с половиной года и завершилась совсем недавно.
Как пояснил режиссер картины Андрей Железняков, фильм «Апостол радости» – это документальное кино с большим количеством ранее недоступных кинохроник, интервью с учениками и семьей отца Александра. Лента показывает его как человека полного энергии и дарившего свет окружающим. Целиком документальный фильм можно будет увидеть в ПСТГУ 22 декабря 2017 года.
После демонстрации фрагмента фильма редакторы, составители и издатели книги ответили на вопросы собравшихся в зале гостей.
Доктор Чехов как религиозный тип
Русская культура на экзамене у протопресвитера Александра Шмемана


Протопресвитер Александр Шмеман. Основы русской культуры: Беседы на Радио «Свобода». 1970–1971. – М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2017. – 416 с.
Его называли проповедником для неверующих, пастырем для атеистов. Неожиданная оценка священнослужителя.
Так ли это было в действительности? Несмотря на то что протопресвитер Александр Шмеман (1921–1983) писал: «Чтобы сохранить веру, лучше читать серьезных агностиков, чем богословов», – это поверхностный взгляд. Он оставил много глубоких исследований по истории Церкви и богословию («Исторический путь православия», «Евхаристия: Таинство Царства», «Водою и Духом о таинстве крещения»). Впрочем, он исследовал не только вопросы литургики или византийской теократии, но и взаимоотношения культуры и религии. Богослов признавался, что его интересует, как «отсвет» христианства влияет на цивилизацию, то есть как религия взаимодействует с последней.
В 1970–1971 годах Шмеман записал курс лекций о русской культуре на Радио «Свобода». Долгое время рукописи считались утерянными, но в настоящее время 30 из 31 беседы найдены и представлены читателю.
Как Шмеман оценивал культуру? Протопресвитер прекрасно понимал, что после религиозного раскола XVII века она утратила свое первоначальное единство и в дальнейшем (эпоха Петра I, революция 1917 года) происходило последующее цивилизационное дробление. Тем не менее Шмеман видел в каждом из ее осколков свою правду. Кроме того, он старался обращать внимание не на разделения и оппозицию, а на формы и механизмы конструктивного взаимодействия. Так, например, петровская вестернизация дала формы и язык предшествовавшей культуре. Именно благодаря этому в XIX веке был такой стремительный взлет отечественной литературы. Но, признавая правду рассматриваемых им культур, Шмеман оценивал их с позиций христианства, правда, не непосредственно, а опосредованно, посредством морали. Поэтому он довольно скептически воспринимал такое на первый взгляд бесспорное явление, как расцвет отечественного модернизма рубежа веков. Ведь этот взлет обернулся «уходом от нравственных основ культуры», поэтому его носители не поняли ни опасности революции, ни необходимости борьбы с ней («странная беспечная атмосфера»). В отличие от все той же культуры XIX века, которая сохраняла этические критерии вне зависимости от агностицизма или даже атеизма тех или иных писателей. Все они оставались «солидарными в сопротивлении жестокости», несмотря на зачастую противоположные (а иногда и враждебные друг другу) политические убеждения.
Собственно, возрождение этического (и, следовательно, религиозного) взгляда на культуру Шмеман видел в постсталинский период в книгах Ахматовой и Пастернака, появлении Солженицына, диссидентском движении.
Как явствует из этих примеров, анализируя культуру, протопресвитер в первую очередь уделял внимание писателям, видя в их творчестве некую ее квинтэссенцию.
При этом сам Шмеман, прекрасно понимал степень религиозной грамотности даже у искренне верующих и воцерковленных литераторов: «Когда-то я забавлялся тем, что ставил отметки по литургике русским писателям, проверяя их знания. Ведь у каждого проглядывает то молебен, то панихида, то свадьба, то еще что-нибудь. И увы, этот экзамен мало кто из русских писателей выдержал. Пушкин написал о том молебне, который, зевая, слушают люди в Троицын день, забыв, что это не молебен, а вечерня. Для литургиста это невыносимая ересь… Тургенев миропомазал Базарова на смертном одре. Лев Толстой употребил кадило на свадьбе Левина (хотя оно в требнике стоит, но давным-давно бытом вытеснено, потому что напоминает похороны, как известно)… Даже наш последний христианский писатель, Пастернак, начинает с какого литургического ляпа! Помните, в «Докторе Живаго»: «…шли, и шли, и пели Вечную память». Вы когда-нибудь слышали, чтобы шли и пели Вечную память? Никогда в жизни. Этого не существует. Спели Вечную память, потом перешли на Святый Боже… И есть только один человек, который получает, не претендуя на большую веру, круглую пятерку по литургике, – это Чехов. Он ни разу нигде не ошибся. Ему не нужно было показывать знание Типикона, но знал он его замечательно».
Отмечу от себя, что в прозе Антона Павловича священники никогда не становились предметом злой сатиры. Так что, переиначив слова другого богослова, Сергия Булгакова, можно говорить о Чехове как религиозном типе.
Вместе с тем, читая лекции Шмемана, невольно обращаешь внимание на определенное противоречие между его «официальным», публичным взглядом на писателя и личными, «интимными» оценками, которые содержатся в дневнике протопресвитера.
Например, в случае с Александром Солженицыным. Шмеман высоко оценивал его прозу («сказочная книга») и подвиг писателя («зрячая любовь»), но при этом фанатичный пафос автора мыслился ему неким «ленинским началом», «большевизмом наизнанку».
Нечто подобное было и в восприятии Шмеманом Анны Ахматовой. В беседах он называл ее «большим поэтом», «несомненной поэтической удачей» культуры, но в дневниковых записях отмечал не только величие ее, но и «презрение, постоянный гнев, гордыню, своеобразный нарциссизм».
Так что скорее Шмеман был не столько проповедником неверующих, сколько неким старателем в клондайке отечественной литературы, находившим даже у атеистов золото веры.
Протопресвитер Александр Шмеман: Социально-утопическое чистилище русской культуры
Беседа 12. Отрицание культуры во имя социальной утопии
«Социальность, социальность или смерть!» – это восторженное восклицание Белинского, когда он только что обратился в социалистическую веру, часто цитировали. И его действительно можно было бы поставить эпиграфом к истории русского сознания, русской мысли, русской мечты, начиная с 40-х годов XIX столетия.
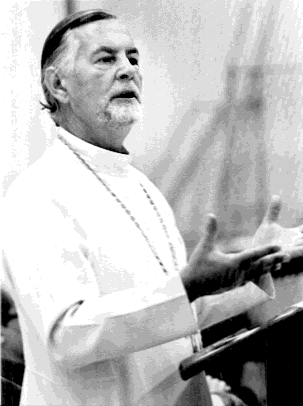
Протопресвитер Александр Шмеман
Социальный вопрос или, точнее, социальная утопия именно с тех пор для большой части русской интеллигенции стала какой-то всеобъемлющей, всепоглощающей страстью. Упрощая, можно сказать так: если в XVIII веке строили культуру, то в XIX веке интерес к культуре оказался чуть ли не целиком подчиненным интересу социальному. И это, конечно, глубоко отразилось на судьбах русской культуры.
Впрочем, не только русской: надо заметить, что одержимость «социальностью» в XIX веке была общей для всей Европы, и Россия не составляла тут исключения. XIX век в Европе был веком Прудона, Маркса, Энгельса, Бакунина, веком революций, Парижской коммуны, начала рабочего движения и развития социологии и экономики как научных дисциплин.
Но в отличие от России эта социальная страсть на Западе не стала всепоглощающей страстью, и она не остановила, не подавила собой продолжения культурной традиции и строительства. Так, например, историю французской или английской литературы XIX века можно изучать совершенно отдельно от общественного и революционного движения, развивавшегося в те бурные десятилетия. Можно говорить о жизненной или литературной драме Флобера, Бодлера, Рембо, не сводя ее к социальной проблематике. И это потому, что культурная традиция на западе Европы была слишком сильной и прочной, чтобы ее могла размыть и поглотить новая социальная страсть.
Что же касается России, то тут нужно признать, что страстное увлечение «социальностью» привело у нас к понижению культурного уровня, стало источником глубоких и значительных «перебоев» в русском культурном сознании.
Сведение всего к «социальности», безоговорочное подчинение ей культуры стало знаменем и, так сказать, питательной средой нового явления русской жизни, а именно знаменитой, многострадальной, замечательной, но и во многом для прошлой России опасной интеллигенции, появившейся как раз в XIX веке.
Если нашей отправной точкой и мерилом взять опять Пушкина, то надо сказать, что у него не было еще ни одной отличительной черты «интеллигента», не было, прежде всего, внутреннего подчинения культуры социальному вопросу. Это совсем не значит, что Пушкин был чужд социальным интересам, не переживал трагически отсутствие политической свободы, порабощение крепостных, социальное неравенство и так далее.
В своем «Памятнике» он по совести мог сказать о себе, что в свой «жестокий век восславил он свободу и милость к падшим призывал». Его интерес к Пугачевскому бунту и глубина его исторического анализа говорят о несомненном понимании им социальной проблемы России в широком смысле этого слова. Скажем просто: не меньше, чем будущие русские интеллигенты, Пушкин был за свободу, справедливость, человеческое достоинство, элементарное равенство.
Но Пушкин чужд основной черте интеллигенции – утопизму. Поэтому 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге, когда произошло историческое рождение интеллигентского сознания и жизненной установки, Пушкин отсутствовал не только физически, но и, так сказать, духовно.
Восстание декабристов было вступлением утопии на историческую сцену России. Пушкин мог сочувствовать личному подвигу и героизму декабристов, но он не мог разделять их утопической страсти. Не мог прежде всего потому, что в его иерархии ценностей культура стояла на первом, а не на втором месте, и от нее, от ее создания и укоренения в России зависело улучшение социального положения, а не наоборот. Вот эта иерархия ценностей и оказалась в интеллигентском сознании перевернутой: на первое место был поставлен социальный вопрос, а культура подчинена ему.
Русская интеллигенция не как особый слой населения, а как тип создалась в русском обществе в итоге двойного процесса: сравнительно быстрого распространения просвещения за пределы высшего дворянского сословия и одновременно почти трагической невозможности творчески и созидательно применить это просвещение на практике, в жизни.
Рождение интеллигенции как массового явления совпало у нас с годами реакции после восстания декабристов, с постепенным превращением империи при Николае I в чиновничье-военное государство, в колоссальную неповоротливую бюрократию. Тогда перед сравнительно образованным русским человеком впервые встал выбор: или он превратится в подобие того чеховского чиновника, который в старости вдруг открыл, что в миллионах написанных им казенных бумаг ему никогда не пришлось поставить ни одного восклицательного знака, выражающего, как он только что узнал, восторг, гнев, вообще сильное чувство, или ему придется уйти в призрачный мир мечты о чем-то несбыточном, то есть уйти именно в утопию. И вот утопия стала своего рода второй натурой этого образованного человека, в нее уходил жар его души, всё его воображение, вся энергия.
Утопия пришла в готовом виде – из западных источников, из наспех препарированных и упрощенных всемирных и всеобъемлющих схем Гегеля и его последователей, из учебников физики и химии, из бурлящего всевозможными идеями Запада.
Восторг, пережитый молодыми Герценом и Огаревым на Воробьевых Горах, был явлением не единичным, а почти коллективным. В кружках, в салонах, а потом и на конспиративных квартирах постепенно зародилась и разрасталась та нескончаемая, восторженная и возвышенная беседа, состоявшая почти из одних восклицательных знаков, которая длилась потом для этой части интеллигенции почти до самого конца Российской империи.
И вот что важно отметить: чем дальше шло время, тем очевиднее снижался культурный уровень беседующих и восклицающих. Если в московских салонах сороковых годов – у Хомякова и Чаадаева, у Елагиных и Грановского – беседа эта еще была насыщена подлинной, глубокой и тонкой культурой, на которой еще лежал отсвет Пушкина, то в 60-е годы – в поколении Писарева и Добролюбова – этой культуры уже не было, она выветрилась, куда-то исчезла, сменившись какой-то серой полукультурой, изучать которую можно по знаменитым «толстым журналам» второй половины XIX века.
Тут как будто действовал какой-то странный закон: чем шире, чем, так сказать, «всемирнее» была утопия, тем уже и суше становился ее культурный коэффициент. Надо было действительно забыть «Капитанскую дочку» и «Героя нашего времени», эти высоты русского языка, чтобы увлекаться романом Чернышевского «Что делать» и плакать над стихами Надсона.
Культуру в это время в интеллигентских кругах стали понимать исключительно прагматически: как минимум необходимых, обязательно практических, обязательно «полезных» сведений для «народа», просвещение сводилось лишь к всеобщей «грамотности», без какой-либо заботы о национальной культуре. Над русской культурой воцарился интеллигент, «идеалистический и беспочвенный», по выражению Федотова, аскет, презиравший не только материальные блага жизни, но и всякую, по его мнению, ненужную «изящность», фанатически одержимый одной, только одной мечтой, в которой, однако, культуре фактически места не было.
Трагический парадокс русской культуры состоял в том, что, начиная с определенного времени, она оказалась на собственной своей родине как бы «чужестранкой». Она перестала быть нужной бюрократически-военному аппарату империи, больше того: этим аппаратом она была поставлена под подозрение. Но она перестала быть нужной и поклонявшейся революции интеллигенции, которая тоже поставила ее под подозрение. Утопия имперская и утопия революционная как бы заключили между собой негласный союз – против высшего «реализма» Пушкина, против той правды о России, которую он чувствовал и к которой русскую культуру призывал.
И можно только удивляться, что, несмотря на этот двойной гнет – со стороны всё дальше отходившей от культуры империи и со стороны отрицательно настроенной к ней интеллигенции, русская культура всё-таки продолжала существовать, питаемая незаметными источниками русского творчества. Больше того, можно даже сказать, что это двухстороннее давление давало ей новую глубину, новое творческое измерение, так как культура эта волей или неволей оказалась вынужденной дать ответ на двойное направленное против нее отрицание, изнутри преодолеть его.
Не преувеличивая, можно сказать, что от Достоевского и Толстого началось освобождение русской культуры от внутренней, психологической ее порабощенности военно-бюрократической и революционно-интеллигентской частям России, на которые она распалась после смерти Пушкина.
Прагматическое отрицание культуры, отрицание религиозное, наконец, отрицание культуры социально-утопическое – вот те три измерения, то чистилище, через которое пришлось пройти русской культуре после ослепительного ее воплощения в Пушкине. Через это чистилище она прошла.
Означало ли это возврат к Пушкину, к начертанной им программе и как отразилось прохождение это на самой ткани русского культурного сознания? Какой высоты, какой глубины достигло оно? [С какими новыми трагедиями пришлось ей встретиться?] Вот дальнейшие вопросы, ответ на которые нужно искать прежде всего у двух гигантов, на двух мировых вершинах русской культуры – у Достоевского и Толстого.
Источники:
http://moskva.bezformata.com/listnews/knigu-protopresvitera-aleksandra-shmemana/63395332/
http://www.ng.ru/ng_religii/2017-12-06/15_433_chehov.html
http://www.pravmir.ru/protopresviter-aleksandr-shmeman-sotsialno-utopicheskoe-chistilishhe-russkoy-kulturyi/



